Разорванные связи
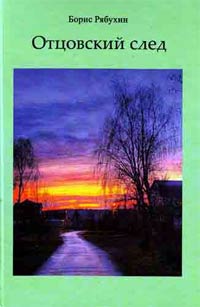
Может быть, семейный детектив – и не жанр рябухинского романа. Но «расследование в письмах» идет на протяжении всех его четырех частей - «Зов предков», «Поиск разведчика», «Прошлое в ответе», «Дух отца».
Простые человеческие истории с участием писателя всегда приобретают свойство резонировать ещё и чувственно, эмоционально. А с участием писателя-историка дают и ворох ассоциаций. Помогают искать потерянный или же ожидаемый смысл нашего земного существования.
Нет нужды пересказывать сюжет, в котором ведущие переписку Володя и Борис, каждый своим путем, и совместно, ищут для себя отцовский след. Один – пропавшего на войне солдата, второй - оказавшегося живым и здоровым папу, который волею судьбы предпочел сменить семью, а потом заново наладил-таки контакт с сыном-первенцем.
Произведение вмещает не просто целый век из жизни страны и народа. Надо сознавать, какие это были сто лет – от предреволюционного периода XX века до эволюционного переворота, который общество переживает по сей день. Вместе с автором ты невольно включаешься в выстраивание версий «семейного детектива», ищешь способы доказательств, примеряешь житейские факты к логике событий в стране, стремясь найти недостающие стыки в хронологии уже известного и свидетельствах очевидцев.
В книге перекрещиваются судьбы участников Гражданской войны, коллективизации и раскулачивания, индустриализации и репрессий конца 30-х годов, Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления.
И понимаешь - ни одно государство, ни один народ в мире не претерпели столько испытаний на том историческом отрезке!
Письма героев романа перемежаются с документами эпохи, перепиской с военными архивами, органами власти, госбезопасности ветеранскими организациями – и такая документалистика создает свой эффект присутствия в эпохе. Иное дело, всегда ли контекст книги и подтекст авторских трактовок совпадают с характером самого иллюстративного фона. Подобные мысли не оставляют при чтении, видимо, по той причине, что уж очень разные ассоциации рождают бумаги того времени. Для кого-то это иллюстрация энтузиазма, завоеваний новой жизни, для кого-то напоминание о потерянных людях, а для третьих (преимущественно молодых) - «семейный архив» как нечто совсем отвлеченное (если не чужеродное). И последнее – не столько обидно, сколько страшно.
Отвлеченное незнание усугубляется и теми добровольными ярлыками, которыми в порыве торопливой самокритики мы обвешали себя и заодно свою страну. Лишь сейчас начав понимать, что в действительности оказалось всеми нами потерянным в ходе недавних стихийных реформ. Когда в книге возникает мотив покалеченного войной поколения, невольно задумываешься о сегодняшнем. Сейчас у них сытое равнодушие и нигилизм, неприятие ценностей старшего поколения, стариков. Ту же Отечественную войну они не знают, потому что о «покалеченном поколении» им говорят чаще и больше, чем о «героическом поколении», победившем фашизм, разруху, освоившем космос и создавшем сильную, самодостаточную державу.
Эпическая по своей заданности книга, акцентирует внимание не только на личных судьбах, но и на глобальных общественных процессах. Точность оценок политических событий удивительна. Становится очевидным, что о поколении людей военного и послевоенного времени следует говорить не только как о «покалеченном», но и в известной мере – «вылеченном». Хотя уроки и были жестоки, но они помогли переосмыслить жизненные ценности, укрепить моральные и нравственные устои в обществе, боевой и трудовой дух солидарности.
И период «хрущевской оттепели», и два десятилетия «брежневского застоя» для писателя – время внутренней психологической перестройки общества, которая призвана была подготовить иное качество жизни.
И если логика перемен оказалась нарушенной, то тут уже не вина послевоенного поколения.
То же самое можно сказать и о теме разорванных родственных связей на постсоветском пространстве. Как относиться к тому, что члены одной семьи не по своей воле вдруг оказываются по разные стороны государственных границ и превращаются в одночасье по отношению друг к другу в иностранцев? Коллизии, переживаемые в книге, не позволяют усомниться в искренности реакций героев на происходящее.
В романе Бориса Рябухина есть автобиографические элементы, собственные «свидетельские показания» о времени и о себе. Придание роману автобиографичности – не грех, а скорее лишнее подтверждение нетривиальности сюжета. Книга столь же правдива, сколько и близка читателю своей эмоциональной достоверностью.



