Интеграция: за и против
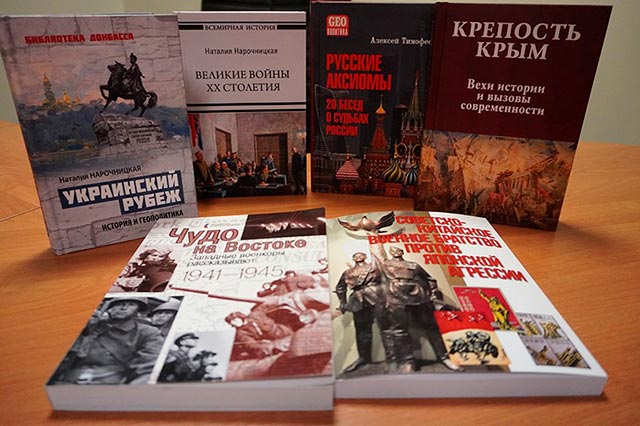
Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовал «Интеграционный барометр» - результаты второго по счету мониторингового исследования отношения населения республик бывшего СССР (за исключением Прибалтики) к интеграционным процессам на территории СНГ. Результаты опроса рисуют интересную и временами неожиданную картину – одни страны, похоже, окончательно покинули постсоветское пространство, население других, несмотря на позицию правящих элит, по-прежнему ориентировано на интеграцию с Россией.
Исследование «Интеграционный барометр ЕАБР» проводилось методом социологического опроса в 11 государствах СНГ и Грузии. В каждой стране по общенациональной выборке было опрошено от 1 до 2 тыс. чел., суммарное число участников опроса превысило 14 тыс. Отношение к евразийской интеграции анализировалось по трем направлениям: экономическое, политическое и социокультурное притяжение, каждое из которых включало отдельный блок вопросов. Первое исследование такого рода было проведено Центром интеграционных исследований ЕАБР в 2012 г. (в нем не участвовал Туркменистан), что позволило проследить ряд показателей в динамике.
Одна из особенностей исследования заключается в том, что участвующие в нем страны занимают в отношении евразийской интеграции разные позиции. Россия, Белоруссия и Казахстан уже образовали Таможенный союз, который вскоре должен превратиться в союз Евразийский. Поэтому население этих стран в ходе опроса отвечало на вопрос об отношении не к перспективам будущей интеграции, а к ее реальным плодам. Украина и Молдавия на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе собираются подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В обеих странах на деньги Евросоюза ведется мощная информационная кампания, призванная убедить людей в выгодности ассоциации, что, несомненно, сказывается на общественных настроениях.
Третью группу стран составляют кандидаты на вступление в Таможенный союз, к числу которых можно отнести Киргизию и, с недавних пор, Армению, отказавшуюся ради этого от соглашения с ЕС. К этой же группе примыкает Таджикистан, руководство которого заявляло о возможном присоединении к Таможенному союзу, не предприняв пока, однако, никаких практических шагов. Есть еще, наконец, группа «неприсоединившихся» стран – Туркмения, Узбекистан, Азербайджан и Грузия, которые в силу многих причин присоединяться к Таможенному и Евразийскому союзам не собираются. Во всех этих государствах отношение к евразийской интеграции оказалось различным, причем определяется оно отнюдь не только симпатиями и интересами самого населения, но и позицией правящих элит и контролируемыми ими средствами массовой информации.
Отношение к Таможенному союзу внутри его «ядра» - России, Казахстана и Белоруссии рисует довольно позитивную картину. От 2/3 до 3/4 населения государств-основателей ТС воспринимают его положительно. Правда, по сравнению с 2012 г. уровень позитивного отношения к ТС в двух из трех стран союза продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись с 80 до 73% в Казахстане и с 72 до 67% в России. Но связано это, скорее всего, с последствиями второй волны экономического кризиса, который стал ощутим как раз на протяжении 2013 г. При этом в Белоруссии уровень позитивного отношения к ТС по сравнению с 2012 г., наоборот, вырос с 60 до 65%. Белоруссия также оказалась единственной среди стран ТС, где вдвое (с 6 до 3%) снизился и уровень отрицательного отношения к Таможенному союзу, в то время, как в России он остался на прежнем уровне (5%), а в Казахстане вырос с 4 до 6%.
В большинстве «третьих» странах СНГ к Таможенному союзу позитивно относится от 1/2 до 3/4 населения, и лишь в Азербайджане их доля составляет всего 37%. Как ни странно, но лидером по позитивному восприятию ТС оказался Узбекистан (77%), который не только не планирует входить в союз, но и демонстративно отказался от участия в ОДКБ и ЕврАзЭС. На втором месте по позитивному отношению к ТС находится Таджикистан (75%), за которым следует Киргизия (72%), Армения (67%), Грузия (59%), Молдавия (54%), Украина (50%) и Туркмения (50%). Примечательно, что уровень позитивного восприятия ТС в Грузии, отношения с которой у России не складываются, заметно выше, чем в Молдавии и на Украине, гораздо теснее связанных с РФ.
Здесь сказываются результаты активной пиар-кампании в пользу ассоциации с ЕС, которая активно ведется в последнее время. Ее результаты не заставили себя ждать. Если в Грузии доля отрицательно настроенных к ТС составила 16%, то в Молдавии – 24%, а на Украине – 28%.
Наиболее негативно к евразийской интеграции настроены жители Азербайджана, 53% которых на вопрос об отношении к ТС ответили отрицательно и лишь 37% - положительно. Это единственная страна СНГ, где доля негативных ответов превышает позитивные. В ментальном плане Азербайджан уже фактически покинул постсоветское пространство, и больше ориентируется на Турцию, США и ЕС, чем на страны СНГ и Россию. Во многом позиции азербайджанцев определяются тлеющим конфликтом с Арменией из-за Нагорного Карабаха и ролью России как военно-политического союзника Армении. Но интересно, что в Грузии, всего пять лет назад воевавшей с Россией, доля негативно относящихся к ТС втрое ниже, а позитивно – в полтора раза выше. В Азербайджане сказывается более высокий уровень жизни, связанный с наличием экспортных доходов от продажи нефтегазовых ресурсов, а также популярность турецкой модели общества и государства, которая считается своего рода тюркским архетипом. Неслучайно Азербайджан является самым активным сторонником тюркской интеграции, к которой другие тюркоязычные страны СНГ большого интереса не проявляют.
Наиболее низкий уровень негативного отношения к ТС зафиксирован в странах Центральной Азии. Причем в Таджикистане (3%), Узбекистане (5%) и Туркмении (9%), первый из которых рассматривает возможность членства в союзе лишь в перспективе (после Киргизии), а два других об интеграции вообще не помышляют, отрицательное отношение к ТС гораздо ниже, чем в Киргизии (14%), которая уже находится на стадии проработки механизмов присоединения. Такая ситуация может свидетельствовать как о недостаточных информационных усилиях со стороны самого Таможенного союза, так и сознательной политике со стороны части киргизских элит, опасающихся потери доходов, и обслуживающего их интересы медиа-сообщества. В странах Закавказья складывается обратная ситуация. Самый низкий уровень негативного настроя к ТС наблюдается в Армении, которая недавно решила присоединиться к нему, в то время как Грузия и Азербайджан лидируют по отрицательному восприятию союза.
Любопытно сравнить отношение к интеграции в республиках бывшего СССР и странах ЕС. По данным «Евробарометра» население действующих членов ЕС в целом воспринимает участие в нем положительно, но уровень позитивных оценок при этом колеблется на уровне 50% (в странах ТС он составляет от 2/3 до 3/4). Причем в некоторых государствах ЕС (Великобритания, Венгрия, Италия, Австрия, Латвия, Греция, Кипр) доля отрицательных оценок сравнима с положительными или даже превышает их. Из шести стран-кандидатов на вступление в ЕС лишь в Македонии и Черногории доля позитивных оценок евроинтеграции превышает 50%. В СНГ же доля позитивных оценок не опускается ниже 50% нигде, кроме Азербайджана, а в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии достигает 3/4 всего населения.
То есть отношение к евразийской интеграции как в действующих странах ТС, так и прочих республиках пост-СССР выглядят гораздо более позитивными, чем восприятие евроинтеграции на нынешней и будущей территории ЕС.
Экономическую притягательность различных стран мира жители СНГ оценивают по-разному. Население более благополучных по уровню жизни России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана более привлекательными в экономическом отношении считает США и страны Евросоюза (в Казахстане аналогичную роль играет Россия). Это касается как потребительских предпочтений (товары), так и оценки привлекательности стран в плане импорта инвестиций и трудовых ресурсов. В прочих государствах СНГ складывается несколько иная картина. Самым привлекательным источником инвестиций для них стали страны «остального мира», расположенные за пределами границ СНГ и ЕЭС. Для Таджикистана такой страной стал Китай, для Грузии — США, для Узбекистана — Япония, для Азербайджана — Турция. В Грузии и Узбекистане по сравнению с 2012 г. заметен рост интереса к инвестициям из стран СНГ. Причем в Грузии на первом месте в качестве источника капитала среди стран Содружества оказалась не Россия, а Украина.
В качестве страны, где люди хотели бы получить образование, ни Россия, ни другие государства СНГ особых конкурентных преимуществ не имеют. Республики бывшего СССР в качестве места получения образования доминируют лишь в Таджикистане (52%), Киргизии (48%) и Туркмении (44%), где высок спрос на учебу в России, Белоруссии и на Украине. Страны ЕС для получения образования чаще всего указывали жители Грузии (58%), Армении (47%) и Украины (45%). Причем в Европе бы хотели учиться и жители России (34%), Белоруссии (33%) и Казахстана (32%).
Такая статистика говорит о важной и не очень приятной для России тенденции. За исключением отдельных государств Центральной Азии она теряет позиции в качестве научно-образовательного центра СНГ, задающего тон в ключевых областях современной науки.
Последствия этой негативной тенденции будут долгоиграющими. Студенты, получившие образование с США и ЕС, будут ориентированы на иные образовательные и культурные стандарты, что неизбежно приведет к ослаблению пока еще сильных гуманитарных связей между странами СНГ.
В области политического и военного сотрудничества такого разброса мнений, как в сфере экономики и культуры, не наблюдается. Население большинства постсоветских государств в военно-политическом отношении ориентировано на страны СНГ. Исключением являются Грузия и Азербайджан, предпочитающие сотрудничество с США и ЕС. При этом Россию в качестве дружественной страны рассматривает более 90% жителей Узбекистана, Киргизии и Армении, более 80% - Казахстана и Белоруссии, и более 70% - Таджикистана, Туркмении и Молдавии. В качестве «главного друга» в пределах СНГ Россия не попала на первое место лишь в Азербайджане, жители которого предпочли Грузию, и самой Грузии, считающей основными партнерами Украину и Азербайджан. Ключевым партером за пределами СНГ для жителей Азербайджана, как и следовало ожидать, является Турция (47%), а Грузии – США (56%). Причем их значение в разы выше России, которую их население в качестве дружественной не воспринимает.
Оценки населением перспектив дальнейшего развития интеграционных процессов в СНГ неоднозначны. Число тех, кто считает, что республики бывшего СССР будут отдаляться друг от друга, больше настроенных на сближение лишь в Азербайджане. Негативного взгляда на евразийскую интеграцию придерживается около 1/5 жителей Украины, Молдавии и 1/6 – Грузии, Армении и Киргизии. Причем в Киргизии их доля за год выросла с 9 до 13%. Хотя в целом процент «интеграционно» настроенного населения во всех СНГ, кроме Азербайджана, больше «антиинтеграционистов». Процессы сближения стран СНГ будут доминировать по мнению 2/3 жителей Узбекистана, около 1/2 – Казахстана, Таджикистана, Киргизии и более 40% - Туркмении, Белоруссии и России.
Общие результаты опроса рисуют весьма разнородную картину. Если в военно-политическом отношении государства СНГ по-прежнему считают союзниками Россию и другие республики бывшего СССР (за исключением стран с длительными двусторонними конфликтами типа Армения-Азербайджан, Узбекистан-Киргизия, Таджикистан-Узбекистан), то в экономической и гуманитарной сфере они зачастую ориентируются на государства «остального мира». Россия по-прежнему является центром притяжения для жителей Центральной Азии, но на Южном Кавказе ситуация иная. Азербайджан ориентирован на отношения с Турцией и США, а Грузия сохраняет довольно сильную ориентацию на США и ЕС, хотя симпатии ее населения к ТС по сравнению с прошлым годом заметно возросли. Проевропейские настроения в течение последнего года усиливаются на Украине и в Молдавии.
В ментально-психологической сфере фактически продолжается процесс фрагментации постсоветского пространства, нередко направляемый внешними игроками.
Местами процесс дезинтеграции республик бывшего СССР, судя по всему, принял уже необратимый характер, и попытки включить в него проблемные и негативно настроенные государства будут лишь негативно сказываться на конечных результатах интеграции.



